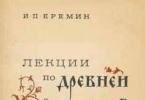В 80-х,90-х годах прошлого века, приезжая в Сухуми, я всегда старался помолиться у могилки старца Серафима, слышал, когда некоторое время жили в пустыни в горах Абхазии, рассказы тамошних пустынников об отце Серафиме, о духоносном владыке Зиновии и об отце Андронике.
24.01.2018 Трудами братии монастыря 2 380
О жизни и подвигах насельников Глинской пустыни написано немало книг и статей, составленных в самой пустыни. Огромный вклад в составление жизнеописаний внесли Глинские иноки, воспитанники и духовные чада старцев, о которых и писали воспоминания, распространяя их душепопечительные наставления и поучения последующим поколениям. Благодаря их трудам нам в полной мере предоставлена возможность почерпнуть из сокровищницы Глинской обители и поучиться на примере жизни некоторых ее насельников – духоносных старцев, подвизавшихся в святой обители, и воспользоваться их пастырскими советами и руководством в духовной жизни.
"В декабре 2017 года закончился Освященный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви. Главное для меня как Председателя Синодальной комиссии по канонизации святых состоит в том, что Освященный Собор благословил общецерковное почитание известных подвижников благочестия - Глинских старцев, включив их имена в месяцеслов Русской Православной Церкви. Ранее они были причислены к лику святых Синодом Украинской Православной Церкви. Глинские старцы давно уже широко почитаются за пределами Украины во многих епархиях Русской Православной Церкви и причисление их к общецерковным святым для меня особенно дорого.
В юности, в 80-е, 90-е годы, приезжая на Кавказ, в Сухуми, всегда старался помолиться у могилки старца Серафима (Романцова). Слышал рассказы местных пустынников об отце Серафиме, когда некоторое время жил в пустыни в горах Абхазии. Рассказывали о духоносном владыке Зиновии (Мажуга) и об отце Андронике (Лукаше).
Глинские старцы уже тогда, в советское время, считались великими старцами и подвижниками. А позже почитание стало общецерковным. Глинским старцам молились на Кавказе, в Украине, а теперь, после включения в месяцеслов, в каждом приходе Русской Православной Церкви.
И вот пришёл день, когда Господь сподобил участвовать в подготовке и общецерковного их прославлении в Соборе Глинских старцев. Душа ликует! Преподобные отцы Глинские молите Бога о нас!"
ИСТОРИЯ ГЛИНСКОЙ ПУСТЫНИ
На Руси Глинская пустынь славилась своим старчеством, так же как Саровская и Оптина пустыни.
 Глинская пустынь была основана еще в XVI веке на месте явления иконы Рождества Пресвятой Богородицы, в 40 верстах от города Путивля, в 160 от Курска и 12 от Глухова (сейчас это Сумская область Украины). В этот период нашу землю терзала монгольская орда, а также междоусобицы русских князей. Именно в это тяжелое для Руси время Царица Небесная дала своим людям утешение и укрепление в вере через явление Своей чудотворной иконы и основание святой обители. Постоянные войны, неурожаи, эпидемии, пожары приводили людей к мысли о суетности мирской жизни, и многие уходили в безлюдные, лесные места. Здесь они, наедине с Богом, проводили время в молитвенных подвигах.
Глинская пустынь была основана еще в XVI веке на месте явления иконы Рождества Пресвятой Богородицы, в 40 верстах от города Путивля, в 160 от Курска и 12 от Глухова (сейчас это Сумская область Украины). В этот период нашу землю терзала монгольская орда, а также междоусобицы русских князей. Именно в это тяжелое для Руси время Царица Небесная дала своим людям утешение и укрепление в вере через явление Своей чудотворной иконы и основание святой обители. Постоянные войны, неурожаи, эпидемии, пожары приводили людей к мысли о суетности мирской жизни, и многие уходили в безлюдные, лесные места. Здесь они, наедине с Богом, проводили время в молитвенных подвигах.
Имя первого насельника Глинской пустыни осталось неизвестным. Известно лишь, что он поселился около новоявленной иконы, названной впоследствии Пустынно-Глинской, в честь князей Глинских, которым принадлежала данная местность (отсюда же и название Глинская Рождество-Богородицкая пустынь), и построил для нее часовню. Люди прибегали к благодатной помощи новоявленной святыни. И многие, желая подражать подвигам первого подвижника пустыни, оставались здесь навсегда.
Подвижническая жизнь настоятелей и братии Глинской пустыни и старческое окормление привлекали в обитель новых подвижников. Епархиальное начальство, замечая нравственную высоту Глинских иноков, переводило их в другие монастыри для становления там истинно духовной жизни. Автор книги «Глинская Рождество-Богородицкая общежительная пустынь» схиархимандрит Иоанн (Маслов) писал, что святая обитель была «рассадником доброго подвижничества в разных, даже очень отдаленных местах нашего отечества»
. Ее огромная просветительская деятельность влияла на духовно-нравственное воспитание народа и способствовала развитию грамотности. Слава обители распространялась и за пределы нашей страны.
 Но настали тяжелые времена для России и Глинской пустыни, настоятелем которой в то время был достойный преемник других богомудрых настоятелей ― архимандрит Нектарий (Нуждин). Во время войны с Германией в 1914-1918 гг. монастырская братия оказывала армии и народу, в первую очередь, духовную помощь, вознося к Богу усиленную молитву о даровании победы над врагами, помогала словом проповеди, разъясняя учение Церкви о войне, и делом - отправляясь в действующую армию для духовного окормления и материального поддержания воинов.
Но настали тяжелые времена для России и Глинской пустыни, настоятелем которой в то время был достойный преемник других богомудрых настоятелей ― архимандрит Нектарий (Нуждин). Во время войны с Германией в 1914-1918 гг. монастырская братия оказывала армии и народу, в первую очередь, духовную помощь, вознося к Богу усиленную молитву о даровании победы над врагами, помогала словом проповеди, разъясняя учение Церкви о войне, и делом - отправляясь в действующую армию для духовного окормления и материального поддержания воинов.
Пустынь, несмотря на длительную войну и революционный переворот 1917 года, продолжала жить полноценной духовной жизнью, во всех отношениях являясь поддержкой для людей до самого ее закрытия в 1922 году.
После закрытия в обители был образован детский городок имени Ленина, просуществовавший до 1928 года. Затем, чередуясь, организовывались другие различные структуры. Имущество обители подверглось расхищению. Была разграблена и, имеющая особую ценность, библиотека, но часть книг архимандриту Нектарию удалось сохранить. Чудотворную икону Рождества Пресвятой Богородицы взяли члены Церковного совета ― граждане села Шалыгино.
 Часть иноков перешла в еще открытые монастыри, но вскоре и те были закрыты советской властью, другие иноки стали служить на приходах, которых также оставалось очень мало, остальные жили в миру, занимаясь различными ремеслами. Большинство братии прошли лагеря и ссылки.
Часть иноков перешла в еще открытые монастыри, но вскоре и те были закрыты советской властью, другие иноки стали служить на приходах, которых также оставалось очень мало, остальные жили в миру, занимаясь различными ремеслами. Большинство братии прошли лагеря и ссылки.
В 1942 году, во время Великой Отечественной войны, снова затеплилась иноческая жизнь в Глинской пустыне. Открыта обитель была при отце Нектарии, который явился и ее возобновителем. Божьим промыслом архимандрит Нектарий не был арестован и сумел сохранить часть монастырского имущества.
Это был единственный монастырь, открывшийся в России в то время. Весть об открытии обители быстро распространилась, и в Глинскую пустынь стали собираться ее бывшие иноки, а также духовно опытные монахи из других закрывшихся обителей, большинство из которых возвращались из ссылок и лагерей. При восстановлении обители главное внимание уделялось возрождению духовных традиций Глинской пустыни. И обитель стала центром возрождения старчества.

Интересные данные о Глинской пустыни и деятельности ее насельников приводятся в архивных документах советского времени: "Богомольцы из разных городов и областей почтой посылают монастырю деньги, жертвуют также и местные верующие. До 1948 года включительно монастырь посещался не только местными, но и дальними паломниками и общежитие из трех комнат общей площадью до 100 квадратных метров в большие праздники бывало заполнено" . В другом архивном документе говорится: «монастырь...он пользуется известностью не только на Украине, но и в более далеких краях и областях Советского Союза, о чем свидетельствуют посещения хотя и редкие, паломников из Ташкента, Чувашии, Архангельска и других, не говоря уже о ближайших областях европейской части СССР...Причем, посещая монастырь, они помогают монахам в работе...»
 И власти делали все, чтобы вновь закрыть пустынь. Вскоре монахов было решено удалить из пустыни, а ее здания и инвентарь передать Сосновскому дому инвалидов. 14 июля 1961 года монастырь был окружен властями с целью недопущения паломников. Монахов отвозили на железнодорожную станцию, запретив им брать с собой даже деньги. Сосновский дом инвалидов впоследствии был преобразован в дом-интернат для психохроников.
И власти делали все, чтобы вновь закрыть пустынь. Вскоре монахов было решено удалить из пустыни, а ее здания и инвентарь передать Сосновскому дому инвалидов. 14 июля 1961 года монастырь был окружен властями с целью недопущения паломников. Монахов отвозили на железнодорожную станцию, запретив им брать с собой даже деньги. Сосновский дом инвалидов впоследствии был преобразован в дом-интернат для психохроников.
После закрытия обители монахи продолжали свое служение Церкви и людям, но уже в разных концах страны.
Многие изгнанники из великой Глинской пустыни нашли пристанище в Иверской земле. Среди них были такие хранители живой традиции старчества как митрополит Зиновий (Мажуга), схиархимандрит Андроник (Лукаш), схиархимандрит Серафим (Романцов).
«Молись Божией Матери и как можно чаще читай “Богородице Дево”.
Промыслом Божиим, после первого закрытия святой Глинской обители (1922 год), в Грузию приехал один из ее монахов - Зиновий (Мажуга). Здесь он заслужил большую любовь и уважение местных жителей, в первую очередь за его безупречную монашескую жизнь.

Однажды, когда митрополит Зиновий приехал из Тбилиси в Сухуми, жители греческого села Георгиевка пригласили старца посетить их село и, получив от него согласие, устроили по случаю его приезда праздник. Люди приводили своих детей под благословение владыки. А председатель сельсовета Георгиевки даже предупредил старца об опасности ареста. Тогда старца приютила у себя в доме одна греческая семья, рискуя своей безопасностью и даже жизнью.

В Иверии владыке Зиновию пригодилось ремесло, которому он научился еще в Глинской пустыни в портняжной мастерской, проходя там послушание. Он даром шил одежду для бедных жителей Георгиевки и люди, видя доброту и праведность старца, вверяли его мудрому пастырскому руководству спасение своих душ.
Владыка имел великое молитвенное усердие к Пресвятой Богородице. Так отвечая на вопрос одного иеромонаха о том, что надо делать, чтобы остаться верным Христу и как перенести испытания, если опять начнутся на Церковь гонения, владыка сказал: «Молись Божией Матери и как можно чаще читай “Богородице Дево” . Кто читает эту молитву, того хранит Пресвятая Богородица...».
Об Иисусовой молитве он учил, что не следует стремиться к высоким степеням и к высокой концентрации мысли, но нужно в простоте сердца творить молитву живому Богу, Который близок нам, как наша душа. Учил также, что молитва Иисусова прививается только к смиренному сердцу. Советовал пользоваться минутами одиночества и разгонять посторонние мысли молитвой Иисусовой. Такое делание молитвы старец считал выше чтения книг.
Владыка Зиновий был аскетом в миру. Так, уже став митрополитом, он продолжал жить в двух маленьких комнатках. Иисусова молитва была его непрестанным внутренним деланием, не прекращавшимся даже во время бесед. Молился он большей частью ночью, а днем служил Церкви и людям.
Вокруг церкви он собрал монашествующих, которые исполняли различные послушания, в основном пели и читали на клиросе.
Владыка часто оказывал людям тайную милостыню. На Литургии вынимал множество частиц за тех, кого знал, и за кого просили помолиться. Ежедневно присутствовал на всех богослужениях, всей своей жизнью подавая людям, окружавшим его, пример христианского подвижничества.После второго закрытия Глинской пустыни (1961 год), многие ее насельники переехали к владыке Зиновию, заменившему для них игумена. Одни из них держались возле владыки в Тбилиси, при Александро-Невской церкви, где старец в то время служил. Некоторые ушли в горные скиты. Другие подвизались на приходах. И владыка всем им помогал и духовно, и материально. Монахи знали, что владыка не оставит их и всегда поможет, и поддержит. Таким образом, многие Глинские монахи на всю жизнь остались в Грузии.
Здесь же на святой Иверской земле старец и скончался, пребывая со своей паствой, как сказал Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II, «...не только духом, но и телом...»
Да не возглаголют уста моя дел человеческих
 В Тбилиси в домике митрополита Зиновия при храме святого Александра Невского жил еще один Глинский старец - схиархимандрит Андроник (Лукаш).
Здесь, затворившись в доме и выходя только в храм, он келейно совершал все службы по уставу Глинского монастыря, а в перерывах читал Псалтырь. Для видимого напоминания главных подвигов духовной жизни: молитвы и внутреннего безмолвия, старец поместил под стеклом две надписи. Первая со словами Иисусовой молитвы, а вторая со стихом из псалма: Да не возглаголют уста моя дел человеческих
(Пс. 16:4). Эти надписи стали завещанием старца своим духовным детям и уроком для посетителей, которых он окормлял в традициях Глинского монастыря. Иисусовой молитве, которая была для отца Андроника защитой, утешением, отрадой и источником надежды и сил, учил он и своих духовных чад.
В Тбилиси в домике митрополита Зиновия при храме святого Александра Невского жил еще один Глинский старец - схиархимандрит Андроник (Лукаш).
Здесь, затворившись в доме и выходя только в храм, он келейно совершал все службы по уставу Глинского монастыря, а в перерывах читал Псалтырь. Для видимого напоминания главных подвигов духовной жизни: молитвы и внутреннего безмолвия, старец поместил под стеклом две надписи. Первая со словами Иисусовой молитвы, а вторая со стихом из псалма: Да не возглаголют уста моя дел человеческих
(Пс. 16:4). Эти надписи стали завещанием старца своим духовным детям и уроком для посетителей, которых он окормлял в традициях Глинского монастыря. Иисусовой молитве, которая была для отца Андроника защитой, утешением, отрадой и источником надежды и сил, учил он и своих духовных чад.
Старец всегда был бодр телом и духом. От него всегда исходила духовная радость, распространявшаяся и на окружавших его людей. Уже здесь, на земле, сердцем и умом жил он в мире вечном, но, когда к отцу Андронику приходили за советом, он не отвергал пришедших и проводил с ними душеспасительные беседы. Старец не говорил о мирском, но старался направить ум человека на внутреннюю жизнь, показать, что главное не то, что вне нас, а то, что внутри нас. Зная, что осуждающий подвергается той же страсти, какую он увидел в другом человеке, отец Андроник запрещал кого-либо осуждать. Поэтому старец завещал своим чадам: «Будь слеп, глух и нем», имея в виду бесчувствие к мирским страстям и не осуждение их в других. Также говорил: «Знай себя, и будет с тебя», то есть видь свои грехи, кайся в них и борись с тем, что мешает молитве.
Когда его спрашивали о духовной жизни, он отвечал сам, а когда вопрос касался Церкви, он отправлял вопрошавших к владыке Зиновию.
Отец Андроник был милостив на Исповеди, редко давал епитимии, так как сильно любил людей. После его смерти, патриарх Давид сказал на могилке старца следующее: «Отец Андроник, ты любил всех людей, и у тебя не было врагов. Молись о нас у Престола Божия».
Внешние подвиги уединения и поста подспорье для послушания, а не основа монашества.
 Другой выдающийся насельник Глинской пустыни, переехавший после ее закрытия в Грузию - схиархимандрит Серафим (Романцов).
Получив огромный духовный опыт в Глинской обители, он смог перенести его на Иверской земле в сердца людей, стремящихся к подлинно христианской жизни. Местом своего жительства старец избрал город Сухуми. Главной целью своего приезда сюда он называл духовное окормление пустынников, живших в Малой Сванетии, в нескольких десятках километров от города ― в горах, в лесу.
Другой выдающийся насельник Глинской пустыни, переехавший после ее закрытия в Грузию - схиархимандрит Серафим (Романцов).
Получив огромный духовный опыт в Глинской обители, он смог перенести его на Иверской земле в сердца людей, стремящихся к подлинно христианской жизни. Местом своего жительства старец избрал город Сухуми. Главной целью своего приезда сюда он называл духовное окормление пустынников, живших в Малой Сванетии, в нескольких десятках километров от города ― в горах, в лесу.
Архимандрит Серафим, будучи опытным делателем Иисусовой молитвы, считал послушание необходимым условием для нее. Он учил, что если человек приобретет навык этой молитвы упорным трудом, но душу не исцелит послушанием и не оставит своей воли, то молитва окажется не той сокровенной Иисусовой молитвой, о которой писали святые отцы, а лишь словами, ведь гордый ум не может сочетаться с именем смиренного Иисуса. Учил также, что для стяжания Иисусовой молитвы нужна борьба со страстями. Учил, что молитва не должна быть оторвана от жизни. Считал полезным соединять молитву с дыханием. Также он считал, что монахи обязательно должны исполнять «пятисотницу».Отец Серафим в свои 70 лет часто посещал пустынников, преодолевая огромный и трудный путь. Он вкладывал в них свой пастырский опыт, молитвенный труд, и, главное, свою отцовскую любовь. И сами пустынники приходили к своему духовному наставнику по ночам, опасаясь неприятности, провокаций со стороны властей, и высылки старца. Он, как чадолюбивый отец, всегда принимал своих детей, проводя с ними беседы, иногда целыми ночами. Те из пустынножителей, кто слушался отца Серафима как наставника, беспрекословно исполняя его благословения, шли ровным путем, отличались духовной рассудительностью и мирным устроением духа. Старец же в свою очередь помогал им своей молитвой. Те же, кто жили самовольно, брали на себя без его благословения непосильный подвиг, впадали в тяжелые искушения.
О благодати Божией он учил, что без нее человек не в силах побеждать искушения и бороться с грехом. Только благодать Божия может обуздать грех и сделать человека победителем в духовной борьбе. Поэтому главная задача аскета - стяжание и хранение благодати. Но благодать действует только в смиренном сердце. Для стяжания ее, как воздух, необходимо послушание. Монаха без послушания отец Серафим не считал монахом. Внешние подвиги уединения и поста он считал подспорьем для послушания, а не основой монашества.
Старец говорил об искушении современных монахов, что они ищут прозорливых старцев, а опытному монаху не доверяют, что требуют от старцев чудес, как фарисеи от Христа. Для новоначальных монахов советовал заниматься физическим трудом, утомляющим тело и являющимся противоядием от плотских страстей и превозношения.
Старец, будучи внешне суровым по отношению к своим чадам, внутренне был любвеобилен. Он обладал даром проникновения в человеческую душу. Говорил о том, что человеку было необходимо, что касалось его спасения. В своих рассказах призывал людей к покаянию, не называя конкретных имен, предостерегал от падений. Понимая сложность ситуации, когда монахи на Иверской земле жили вне монастыря, отец Серафим был к ним снисходителен на Исповеди. Но это снисхождение не переходило в потакание страстям, и старец требовал борьбы с грехом, и решимости не повторять грехи. Он считал, что монашество в миру требует большего послушания, чем в обычной монастырской жизни. А одним из признаков послушания называл духовную радость, которую истинный послушник всегда носит в сердце. Другой признак послушания - умирение помыслов и вручение себя промыслу Божию через своего старца.
В начале своего пребывания в Сухуми старец ходил в кафедральный собор, где принимал народ на Исповедь, и сюда к нему потянулись многочисленные паломники Глинского монастыря. На Исповеди он решал духовные вопросы, давал советы и наставления. Отец Серафим учил во всем видеть Божию волю и покоряться ей. Душа архимандрита Серафима тянулась к общению не с учеными монахами, которых он также уважал, но с молитвенниками.
Старец придавал большое значение преемственности монастырской жизни и даже вне монастыря, включая устав богослужения, ежедневную Исповедь, откровение помыслов. Часто к нему приезжал из Тбилиси его духовный друг - схиархимандрит Андроник. Оба старца пытались сохранить единство Глинской братии, которая была рассеяна по всей стране. И Глинские монахи всегда могли найти приют, наставление и утешение, как у владыки Зиновия, так и у отца Андроника и отца Серафима.
Неустанно трудились старцы во славу Божию, служа Церкви Христовой и людям. Среди насельников Глинской пустыни, как говорится в книге «Глинская мозаика»: «...не было разделения на важную и неважную работу, почетную и низкую, достойную их сана и звания или унижающую их. Где надо, там и были в первую очередь они, старцы. Делать они умели все быстро, толково, молча, вероятно – с молитвой». И эта их забота друг о друге, о каждом человеке, их жертвенная жизнь была для людей светом, который пробуждал в людских душах осознание своей греховности, желание очиститься и изменить себя в лучшую сторону. Старцы примером всей своей жизни исполняли слова Господа: ...Но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою; и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом (Мф. 20:26-27).
Виталий Ляховский
На одной из тихих улочек старого Тбилиси расположена русская православная церковь, освящённая во имя святого благоверного князя Александра Невского. В день его памяти, 6 декабря нынешнего года, приход отмечает 150-летие со дня основания храма. Мы продолжаем рассказ об истории этой церкви, где нашли свое прибежище последние глинские старцы.
Святейший Патриах Грузии Илия II неслучайно назвал Александро-Невскую церковь « филиалом » Глинской пустыни, древнего монастыря, основанного в XVI веке.
Глинская пустынь не раз закрывалась в богоборческие времена. Впервые это произошло в 20-е годы прошлого века. Старцы, которыми славился монастырь, спаслись в Грузии, которая стала их второй родиной. В Александро-Невской церкви служили Господу глинские старцы: митрополит Зиновий (Мажуга), в схиме Серафим; схиархимандриты Серафим (Романцов), Андроник (Лукаш) и Виталий (Сидоренко).
Почти четыре столетия Глинская обитель оказывал мощное воздействие на духовную жизнь всей России. Пустынь славилась строгостью истинно подвижнического устава и высотой духовной жизни насельников. Иерархи Русской Православной Церкви считали Глинскую пустынь истинной школой монашеского делания, « школой Христовой », а старцев – « украшением монашества ». Это была одна из тех редких на Руси обителей, в которой старческое окормление было утверждено уставом. Жизнеописания только наиболее известных глинских подвижников составляют трехтомный Глинский Патерик. Своей подвижнической жизнью и деятельностью Глинские старцы оказывали нравственное влияние на все слои русского общества. Многочисленные паломники со всех концов России устремлялись к ним с целью укрепления своих духовных сил.
Наступили богоборческие времена. В 1922 году монастырь закрыли в первый раз. Старцы спаслись на Кавказе, продолжая поддерживать тесные связи с Глинской пустынью, которая в 1942 г. была открыта, но ненадолго, в 1961-м году ее вновь упразднили.
Благословенная Иверия, первый удел Божией Матери, приняла старцев. К ним постоянно приезжали верующие из России за духовной поддержкой, а в Грузии их называли ласково « дедушками ». Здесь, в Грузии, бережно сохранили православие. Власти не обращали внимания на общину Александро-Невской церкви, и это было во благо.
Вспоминает схиигуменья Елизавета, духовная дочь схиархимандрита Виталия: « Шел 1975 год, мне исполнилось 24 года. Отец Серафим (Романцов) благословил меня переехать в Грузию и служить в русской Александро-Невской церкви. В монашество меня постригал отец Виталий, ставший моим духовным наставником.
Схиархимандрит Виталий, глинский старец, перебравшись в Тбилиси, 20 лет служил в нашем храме. Он был чудотворцем, по милости Божией творившим исцеления духовные и физические, поддерживавшим высокую духовность в обители.
Господь сподобил меня быть при последних минутах жизни и владыки Зиновия, и отца Виталия. Отец Виталий в последние дни жизни не мог разговаривать, но что за сила была в нем! Он горячо молился и полностью предавал себя Богу. На могилы старцев постоянно приходят верующие и получают духовную поддержку.
Я помню страшные 90-е годы, когда в Тбилиси не было света, газа, иногда и пропитания. В это время церковь поддерживала людей, давала не только физическую пищу, но и духовную, помогала обрести точку опоры и не впасть в озлобление и отчаяние. Наш храм и сегодня подкармливает неимущих, для этого открыта столовая.
Святитель Игнатий Брянчанинов в « Приношении к монашеству » описал суету нашего времени и то, как враг будет отбирать любовь и веру у людей. Люди будут метаться и безуспешно искать истину. А истина – в вере, послушании, смирении, уповании на волю Божию.
В наш храм приходят многие, даже те, кто не знает русского языка. Как-то вижу: к могилке отца Виталия подошла женщина и обращается к нему по-грузински. Мы с ней разговорились, и она сообщила, что старец позвал ее, обещал помочь. Спрашиваю, на каком же языке вы общаетесь? И слышу в ответ: « На грузинском! »
Мы должны уметь понимать и беречь друг друга – это основа любви. Нашему храму полтора века, и все это время здесь звучат молитвы о мире и взаимопонимании.
Мой наставник скончался 1 декабря 1992 года. Гроб с его телом стоял в храме до 6 декабря, дня памяти святого благоверного князя Александра Невского. Люди шли и шли, чтобы поклониться почившему старцу. И вот в тот день, 6 декабря, случилось чудо. Когда прозвучала разрешительная молитва, отец Виталий раскрыл ладонь и принял молитву. Есть видеозапись этого чуда. За несколько лет до кончины старец предсказал это событие: « За молитвою своих чад я выброшу руку из гроба ».
Я счастлива, что 18 лет была духовным чадом отца Виталия при его жизни. Но и после кончины старца наша духовная связь не прервалась. Я всегда чувствую его молитву ».
На могиле отца Виталия около Александро-Невского храма в Тбилиси в знак благодарности всегда лежат цветы…
Татьяна ЕРОХИНА,
специально для газеты « Благовест »
На фото: схиигуменья Елизавета на могиле отца Виталия, Глинская пустынь.
Глинская пустынь… Эта обитель в течение столетий была для наших соотечественников олицетворением высшего христианского подвижничества и нравственного мужества. Наряду с Киево-Печерской и Троице-Сергиевой Лаврами Глинская пустынь служила общему всенародному духовно-просветительному делу и была своеобразным университетом старческого окормления на Руси. Монастырь этот отличался особо строгим уставом.
Здесь совершались две литургии: ранняя с половины шестого утра и поздняя. Согласно 12-й главе Глинского устава, четыре раза в неделю читали акафист: во вторник – святой великомученице Варваре, в четверг – святителю Николаю, в субботу – Пресвятой Богородице, в воскресенье – Спасителю или Божией Матери перед чудотворной иконой.
За богослужениями поминали всех благодетелей обители. Вкушение пищи и пития после вечернего правила монахам не разрешалось. Отступать от правила позволялось лишь по благословению старца, но после вкушения пищи монах совершал малое повечерие с вечерними молитвами. В половине первого ночи инок вставал на утреню, которая продолжалась до половины пятого утра и дольше. Вечерня начиналась в четыре часа вечера, в пять часов был ужин, в шесть – повечерие. Только в семь или восемь часов вечера для большинства иноков наступало свободное время, которым они могли распоряжаться по своему усмотрению. Обычно оно уходило на чтение святоотеческих книг, исполнение келейного правила, на беседу со старцем и т. д. А в полночь снова вставали на молитву.
Сюда в 1957 году и поступил отец Ипполит послушником, где трудился на разных монастырских послушаниях.
История этой пустыни имела немало печальных страниц. Монастырь разделил судьбу многих храмов России. В 1922 году монастырь был закрыт и долгое время оставался в запустении. Его открыли только во время Великой Отечественной войны в 1942 году. Все, что осталось от обители – это кучи мусора, обломки штукатурки, кирпича, кровельного железа.
В то время, когда батюшка Ипполит (тогда послушник Сергий) подвизался в этой обители, настоятелем Глинской пустыни был схиархимандрит Серафим (Амелин) .
Отец Серафим много сил отдал на восстановление обители. Много приходилось трудиться и остальным насельникам обители. На иноков и послушников ложилась вся тяжесть житейских забот: кухня, заготовка дров, ремонт помещений и т. п. Но главным делом для монахов оставалась молитва.
Глинская пустынь сравнима разве что с Оптиной по числу старцев, по тому, какие подвиги они совершили здесь. Тесное общение со старцами формировало характер будущего отца Ипполита, у них он учился всему самому лучшему: смирению, неустанной молитве, трудолюбию. Хотелось бы рассказать об этих замечательных подвижниках, о молитвенниках земли русской. Отец Серафим (Амелин) один из них.
Главным свидетельством необыкновенного внутреннего облика старца был благодатный свет, озарявший его лицо. Он указывал на ту одухотворенность, которая отличалась удивительным миром и тишиной. Отец Серафим хранил эту тишину, боясь хоть чем-нибудь ее нарушить. При общении с отцом Серафимом можно было радостно молчать, что бывает крайне редко с другими людьми. В тиши любого уголка, устроенного заботами отца Серафима, всегда была возможность молиться, работать, молчать и радоваться свету, чувствуя защищенность молитвами старцев. Все внешнее таяло, уходило в небытие. Схиархимандрит Серафим (Амелин) был наделен Божиим даром прозорливости.
Духовный отец батюшки Ипполита – схиархимандрит Андроник (Лукаш) , – также был прозорливым старцем, великим молитвенником, отличался необыкновенной кротостью и смирением. Старец с радостью принимал всех, поучая, чтобы добрыми делами, послушанием, в кротости и смирении исполняли заповеди Господни. Отец Андроник говорил: «Живи ниже травы и тише воды – и спасешься!» Для него все люди были святые, за всех он переживал и молился.
Отец Андроник родился в Полтавской губернии 12 февраля 1889 года в семье крестьян, при крещении был назван Алексием. С детских лет мальчик так возлюбил Бога, что его тяготила суета сего мира. Мать часто рассказывала сыну о монастырях и подвижниках, и Алексей с раннего детства горел любовью к иноческой жизни. Но, не смея идти против воли родителей, отрок повиновался им во всем. По окончании школы отец устроил его волостным кучером. Однажды Алексей встретил странника, который, видя настроенность отрока к монастырской жизни, рассказал ему об обителях русской земли, об их уставах и обычаях. Алексей услышал о Киево-Печерской Лавре, Троице-Сергиевой Лавре, Валааме, Саровской, Оптинской, Глинской и других святых обителях. Через некоторое время Алексей принимает твердое решение уйти в монастырь. Мать, узнав о решении сына, едва сдерживая слезы, сняла свой маленький нательный крестик и благословила им Алексея, втайне от отца.
В 1906 году Алексей впервые переступил порог Глинской обители. Новый насельник проходил послушание в гостинице, в прачечной, на кухне. Везде он проявлял себя неустанным тружеником, молчаливым и смиренным. Через три года его перевели в Спасо-Илиодоров скит, недалеко от обители. Жизнь там была особенно строгая. И в таком уединении, на послушании келаря, послушник Алексий приобщался к подвижнической жизни.
Отсюда его призвали на действительную службу, которая длилась три с половиной года на территории Польши, после чего Алексий сразу вернулся в родную обитель, где нес послушание на пасеке. Через некоторое время началась Первая мировая война. В 1915 году вместе с другими молодыми иноками Глинской пустыни Алексий был мобилизован. При первой же боевой операции его вместе с остатками взвода взяли в плен, затем отправили в лагерь, из которого перевезли в Австрию, где он пробыл три с половиной года.
Осенью 1918 года он получил освобождение и вернулся в Глинскую обитель, где в 1921 году принял монашеский постриг с именем Андроник. Годы, проведенные в обители, оставили в отце Андронике неизгладимый след и способствовали его духовному совершенствованию. Здесь было положено начало высокодуховной подвижнической жизни.
С восходом солнца он вставал на послушание, которое совершал старательно и с великой ревностью. А ночь проводил в постоянных молитвах со множеством коленопреклонений. В пищи и питии был воздержан, из имущества держал только самое необходимое: церковную и рабочую одежду, жесткую постель, на которую он ложился на короткое время отдыха, не раздеваясь. Впоследствии, где бы он ни был, всегда твердо исполнял свои монашеские обеты. Вся его жизнь была направлена к одной цели – спасению своей души и души ближнего.
После закрытия Глинской пустыни епископ Павлин (Крошечкин) взял монаха Андроника к себе в келейники и в 1922 году рукоположил во иеродиаконы. В 1923 году иеродиакон Андроник был сослан на Колыму по обвинению в контрреволюционной деятельности. В ссылке отец Андроник был санитаром в больнице. Он ухаживал за больными с искренним состраданием и любовью, сам мыл их. Все его полюбили, а сосланные узбеки даже звали «мамой».
Однажды в больницу привезли умершего епископа Иринарха (Синеокова-Андреевского).
– Привезли его на повозке, повозка коротка, голова висит… Такой худой, одни кости… – вспоминал впоследствии старец Андроник. Он обмыл его и упросил врача, чтобы тот дал для погребения епископа большой гроб, который несколько лет стоял в больнице, затем застелил гроб простыней, из полотенца сделал омофор, надел на епископа свою шапку, вложил в руки четки.
Отец Андроник написал епископу Павлину, что Господь сподобил его похоронить владыку Иринарха. За это в 1936 году Патриаршим Местоблюстителем Блаженнейшим митрополитом Сергием иеродиакон Андроник был награжден наперсным крестом.
Через некоторое время отец Андроник вместе с епископом Павлином переехал в город Пермь. В 1928 году, в Москве, иеродиакона Андроника рукоположили во иеромонаха, против его желания. В 1929 году, во время болезни, иеромонах Андроник принял великий ангельский образ – схиму, с тем же именем – Андроник (в честь преподобного Андроника Московского).
В 1939 году отец Андроник был вторично осужден и сослан на Колыму. Почти год его держали в тюрьме, вызывали на допросы, угрожали и жестоко мучили до потери сознания…
28 сентября 1948 года старец Андроник вернулся в Глинскую пустынь. Его душа, очищенная многими скорбями, была переполнена благодатных даров Святаго Духа, эта духоносность и привлекала людей к старцу. Он делом исполнил заповедь о любви к врагам и стяжал в своем сердце величайший дар Божией благодати – христианскую любовь к ближнему. Смирение и кротость безраздельно царили в его душе. Мудрый духовный наставник отец Андроник, утешая других, безошибочно провидел внутреннее состояние человека и указывал ему самый верный путь ко спасению. Его руководство отличалось особой мягкостью и добротой. Это привлекало к старцу и братию, и множество паломников. По его молитвам исцелялись не только духовные раны, но и телесные болезни.
В 1955 году отец Андроник был возведен в сан схиигумена. После закрытия Глинской пустыни в 1961 году схиигумен Андроник подвизался в Тбилиси под духовным руководством митрополита Зиновия (Мажуги), который очень любил и почитал старца. В 1963 году по благословению Патриарха Алексия I старец был возведен в сан архимандрита. С 1963 года схиархимандрит Андроник служил в храме Александра Невского г. Тбилиси. В ноябре 1973 года у него пропала речь и отнялась левая сторона тела. Старец тихо и мирно скончался 21 марта 1974 года. Похоронен в Тбилиси, куда и поныне приезжают множество богомольцев почтить его память.
Устные предания хранят сведения о тех, кто получил и получает благодатную помощь после смерти старца Андроника по его молитвам.
В молодости батюшка Ипполит приехал за благословением на поступление в Духовную семинарию. Старцы ответили:
– Здесь тебе и семинария, и академия.
– Батюшка, Вы умрете, кто же после Вас будет старцем? – спросил как-то отец Ипполит у старца Андроника.
– Да ты и будешь старцем, – ответил отец Андроник.
Однажды послушник Сергий (отец Ипполит) тяжело заболел крупозным воспалением легких. Болезнь обострилась настолько, что врачебное вмешательство не помогало, состояние все ухудшалось, и ожидали уже кончины. Старец Андроник совершил над больным таинство соборования, причастил послушника и стал за него молиться. На третий день послушник Сергий встал совершенно здоровым.
К отцу Андронику батюшка относился трепетно всю жизнь, постоянно ощущал его молитвенную поддержку.
Сестры-подвижницы Анисия, Матрона и Агафия, подвизавшиеся и почившие в селе Ялтуново Шацкого района Рязанской области, подвиг которых, по словам старца схиархимандрита Виталия (Сидоренко), был выше монашеского, любили и чтили схиархимандритов Серафима (Амелина) и Андроника (Лукаша). О глинских подвижниках сестры говорили как о великих старцах нашего времени.
Революцией в Рождества Богородицы Глинской пустыни, расположенной в Сумской области в нескольких километрах от российско-украинской границы, было разрушено почти всё. Схимитрополит Серафим (Мажуга), схиархимандриты Андроник (Лукаш), Серафим (Романцов) и Серафим (Амелин) и другие старцы прошли через множество испытаний: изгнание из обители, лишения и мытарства в советских лагерях. Но, несмотря на все трудности, на многочисленные расколы в обществе и Церкви, глинские подвижники своим поведением и служением подавали личный пример, как правильно жить и молиться.
Дорога в пустынь
Отрок Захария Мажуга, ставший спустя многие годы митрополитом Зиновием и за два года до смерти принявший схиму под именем Серафим, после смерти родителей жил в семье своей двоюродной сестры Параскевы. В это время он часто тайно бегал в монастырь и был уже знаком с некоторыми насельниками. Поскольку семья, в которой он жил, была бедной, вскоре его отдали обучаться в пошивочную мастерскую при Глинской пустыни. А в 1912 году 16-летним юношей он был зачислен в Глинскую пустынь послушником.
Юноша Алексей Лукаш, впоследствии старец Андроник, впервые переступил порог Глинской обители в 1906 году. Братия произвели на него сильное впечатление. Впоследствии он вспоминал: «Овеяло меня великой радостью, дух мой встревожился, и умом я с воздыханиями обратился к Царице Небесной, прося принять меня в число равноангельских иноков, которое Она стяжала к непрестанному славословию Сына Своего. Дал Матери Божией таинственное обещание служить Ей, всё переносить, терпеть до конца своих дней, после чего ощутил радость на сердце и надежду на Ее милосердие».
Об отце Серафиме (Романцове), который по скромности своей мало что о себе рассказывал, известно немного: в святом крещении он получил имя Иоанн, а по окончании церковноприходской школы и смерти родителей в 1910 году тоже поселился в Глинской пустыни.
Отец Серафим (в миру Симеон Амелин), ставший в 1943 году настоятелем пустыни, родом из простых курских крестьян. После смерти матери отец Симеона стал настаивать, чтобы тот женился, но юноша стремился к духовному подвигу. В 1893 году, в возрасте 19 лет, он ушел из дома и поступил в Глинскую пустынь. Отец вначале был этим недоволен, но, приехав в обитель, смягчился и сказал сыну: «Раз ушел в монахи, так уж и живи, не уходи отсюда».
В монастыре жили по Афонскому уставу и каждого новоначального вручали богомудрым старцам, которые должны были научить недавно пришедших духовной жизни. Послушники, в свою очередь, обязаны были руководствоваться наставлениями старца.
Преподобный Филарет (Данилевский) (настоятель Глинской пустыни с 1817 по 1841 год), написавший устав пустыни и заложивший основы ее монашеской жизни, считал, что духовное возрождение обители возможно только при полном доверии к нему как к пастырю, который все свои наставления и советы основывал на евангельских заповедях и святоотеческом опыте. Он ввел строгие иноческие порядки: удалил из обители женщин, которые до этого присматривали за скотом, строго следил за тем, чтобы иноки не ходили в гости, не пустословили, не теряли времени даром, не приобретали лишнего, не увлекались предметами роскоши, иногда попадавшими в их обиход от знакомых или родных.
В трудные годы общей разрухи, когда вся страна переживала страшные гонения на веру и Церковь, традиции и школа старчества Глинской пустыни не прерывались. С самого начала Первой мировой войны Глинская пустынь старалась деятельно помогать всем пострадавшим. Монастырь отсылал в Красный Крест денежные и материальные пожертвования, а также книги о святых подвижниках, укреплял боевой дух воинов. Все трое будущих старцев, кроме Серафима (Амелина), вместе с другими послушниками Глинской пустыни были мобилизованы и воевали. Во время войны отец Андроник попал в плен и был отправлен в лагерь в Австрию. Вернулся в родную обитель он только через три с половиной года после освобождения.
Получается, что все старцы не только примерно в одно время поступили в Глинскую пустынь, но и несли вместе послушания. Кроме того, все они приняли монашеский постриг в Глинской пустыни уже после революции, но до ее закрытия в 1922 году. Обычно в то непростое время настоятель монастыря архимандрит Нектарий перед постригом предупреждал желающих равноангельского жития о том, что обитель в ближайшее время могут закрыть. «Если кто хочет, — сказал он, — может принять постриг, а кто не готов к предстоящим испытаниям, тот может отказаться». Но никто из юношей не отказался.
Пустынножители Кавказских гор
После закрытия Глинской пустыни в 1922 году отец Зиновий (Мажуга) и отец Серафим (Романцов) перебираются в благословенную Иверию. Их принимают в Драндовский Успенский монастырь близ Сухуми.
Кавказские горы, подобно Египетской пустыне, издавна служили местом аскетических подвигов хрис-тиан, посвятивших себя Богу. Этот край был освящен апостольской проповедью и мученической кончиной ученика Христа святого апостола Симона Кананита, святителя Иоанна Златоуста и мученика Василиска. Шли годы, сменялись столетия, но эти горы всегда были желанным прибежищем для тех, чья душа жаждала уединенной молитвы. Не имея возможности открыто исповедовать веру, монахи и миряне, стремившиеся следовать заповедям, уходили из городов в горы, где еще много веков назад поселялись подвижники. Здесь пустынножители обустраивали кельи и, подражая своим великим предшественникам, совершали монашеское делание и окормляли верующих из ближайших селений и всех с верой к ним приходящих.
Но в то тяжелое время монахам не давали покоя даже в горах. На них постоянно устраивали облавы, поэтому священнослужители были вынуждены оставить свои кельи. В 1928 году был закрыт Драндовский монастырь. Вскоре многие из монахов были арестованы, в их числе были и глинские старцы.
Исповедники веры
Удивительно, что пути глинских подвижников постоянно пересекались в разных уголках страны. Отца Зиновия арестовали в 1930 году и семь месяцев продержали в ростовском распределителе, где он встретился с отцом Серафимом (Романцовым) и другими отцами Глинской пустыни. Отец Серафим был отправлен в Ташкент, туда же хотели отправить и отца Зиновия. Находясь в изоляторе, иеромонах Зиновий заболел малярией. Его положили в лазарет. Один молодой доктор дважды созывал консилиум врачей и доказывал им, что отца Зиновия из-за болезни нельзя отправлять в Среднюю Азию. Он сказал своим коллегам: «Вам в Ташкенте нужна рабочая сила или мертвецы? Если Зиновий Мажуга поедет туда, его ожидает смерть». И случилось так, отца Зиновия отправили на Урал.
Отец Андроник отбывал заключение c 1923 года сначала в сибирском Мариинске, а затем на Урале. Однажды в лагерь привезли едва живого епископа Иринарха (Синькова), который вскоре скончался. Отец Андроник в то время был санитаром и, чем только мог, помогал другим. Повязав на шею полотенце, на котором углем начертал крест, что и заменило епитрахиль, он отпел почившего, предал его тело земле, похоронив архипастыря в отдельном гробу. За это в 1936 году заместителем Патриаршего местоблюстителя Блаженнейшим митрополитом Сергием отец Андроник был награжден наперсным крестом.
Филиал Глинской пустыни
В лагере у отца Зиновия здоровье сильно пошатнулось, и после освобождения в 1942 году он отправился на лечение в Грузию, где у него украли документы. По Промыслу Божию там он познакомился с Католикосом-Пат-риархом всея Грузии Каллистратом, который разрешил ему служить сверхштатным священником при Сионском соборе Тбилиси с 1942-го по 1944 год. Всё дальнейшее служение иеромонаха Зиновия проходило на территории Грузии.
Когда в 1942 году Глинская пустынь вновь распахнула свои двери, оставшиеся в живых старцы возвратились в свой родной монастырь. В их числе были отец Серафим (Амелин), который после закрытия Глинской пустыни жил в селе Ковенки Курской (а после 1938 года — Сумской) области и занимался столярно-слесарными работами. В 1943 году иеросхимонах Серафим был утвержден в должности настоятеля Глинской пустыни и возведен в сан игумена.
Уже после войны — в 1947 и в 1948 годах — в пустынь вернулись отец Андроник с Колымы и отец Серафим (Романцов) из Ташкента. Иеромонаху Зиновию не суждено было вернуться в Глинскую пустынь. Но впоследствии получилось так, что после вторичного закрытия обители в 1961 году глинские подвижники нашли приют у отца Зиновия, ставшего на тот момент архиереем в Грузии. В Тбилиси не приехал только отец Серафим (Амелин), который скончался за три года до этого.
Александро-Невский храм в Тбилиси стал настоящим «островком России». Владыка Зиновий объединял вокруг себя всех. Весь людской поток, который раньше направлялся в Сумскую область, теперь направился в столицу Грузии. К владыке приезжало столько братии, духовных чад и верующих, что Святейший Патриарх Илия говорил: «Владыка, у вас филиал Глинской пустыни».
Протоиерей Михаил Диденко, клирик Александро-Невского храма Тбилиси, в своих воспоминаниях о старцах пишет: «Три старца, но у всех разный подход к людям и делу. Владыка Зиновий выделялся своим административным положением и своей архиерейской властью. Отец Андроник — всем раб. У него на устах, как и у Серафима Саровского, мой милый, мой дорогой — Христос воскресе! К кающемуся грешнику обращался с любовью и с большой снисходительностью, давал посильную епитимию, а остальное брал всё на себя. Таким он был в монастыре, в заключении и вне монастыря. Старец Серафим к кающемуся грешнику подходил более строго, более требовательно. Но простой народ всех их любил одинаково и воздавал им своею любовью каждому по достоинству».
Чудотворцы
Подобно древним старцам, подвизавшимся в Египетской пустыне, преподобные отцы глинские были удостоены от Бога даров чудотворения и прозрения будущих событий. Они многое предвидели в судьбах своих духовных чад, предостерегали их от возможных неприятностей.
Будучи членом Священного Синода Грузинской Церкви1, отец Зиновий однажды участвовал во встрече с Предстоятелем Александрийской Церкви. Это было в 1950-е годы. Высокую делегацию сопровождал епископ Пимен (впоследствии Патриарх Московский и всея Руси). После Литургии в одном из тбилисских храмов делегации выстроились для взаимных приветствий. Внезапно старец Зиновий подошел к Предстоятелю Александрийской Церкви и попросил его уступить ему место, причем очень настойчиво (позднее владыка вспоминал, что действовал в этот момент не по своей воле и понимал всю неуместность своего поведения). Это чрезвычайно всех удивило, но, учитывая обстановку, не стали выяснять причины, а подчинились его требованию. Через некоторое время после того, как настойчивому архимандриту уступили место, из верхнего ряда иконостаса вдруг выпала икона и упала точно на голову отца Зиновия. Удар был столь сильным, что клобук на пострадавшем весь разорвался. Сам старец Зиновий отделался легким обмороком, без каких-либо осложнений. Очевидцами этого события были все присутствовавшие в храме. Возмущение и недовольство гостей архимандритом сменились искренним уважением и признательностью — все понимали, что благодаря отцу Зиновию удалось избежать больших неприятностей. Никто из присутствовавших не сомневался в чудесности происшедшего. Сам владыка говорил позже, что Промысл Божий и ангел-хранитель через него обезопасили жизнь главы Александрийской Церкви.
Господь заранее открыл прозорливому старцу день его кончины. Святитель Зиновий в последнюю ночь своей земной жизни сказал келейнику такие слова: «Я от вас завтра ухожу». Келейник в горести воскликнул: «Владыка, как же я буду без вас? Я без вас погибну». Владыка ласково утешил его: «Я ухожу, но и там (указывая на небо) буду за вас молиться». Этот ответ смягчил прощальные слова старца и подбодрил его келейника2.
Во всех воспоминаниях близких старцу людей видна не только прозорливость владыки Зиновия, но и его любовь к своей пастве, забота о каждой вверенной ему душе. Например, как-то, находясь в селе Бурдине вместе со своим келейником Александром, он ему сказал: «Как было бы хорошо, если бы ты тоже пошел по духовной линии». На что келейник возразил, что он очень стеснительный, а пастырское служение требует постоянного общения с людьми. Святитель Зиновий ответил: «Следует поехать в семинарию. Они там всему этому учат». В 1985 году, через несколько лет после смерти владыки, Александр поступил в Московскую духовную семинарию, был рукоположен архиепископом Александром (Тимофеевым) во диакона, а на следующий год Святейшим Католикосом-Патриархом Илией II в Сионском соборе — во священника. После окончания Московской духовной академии остался там преподавателем и помощником инспектора. Ныне протоиерей Александр Чесноков — клирик Екатеринодарской и Кубанской епархии.
По молитвам старца Андроника (Лукаша) также происходило много удивительного в Глинской пустыни. Как-то долго стояла жара, и отец Андроник стал всех собирать на молебен в поле. Богомольцы поставили в поле список чтимой иконы Рождества Пресвятой Богородицы, зажгли свечи. Отец Павлин читал ектении, отец Андроник просил у Господа дождя. Просил теми же словами, что в Требнике: «Даждь дождь земле жаждущей, Спасе!» — с уверенностью обращаясь к Богу, Который рядом присутствует и не может не услышать и не исполнить просьбы. На небе не было ни единого облачка. Казалось бы, нет никакой надежды, но Бог услышал молитвы страждущих и даровал дождь.
В святой обители запомнился и такой случай. В пустынь принесли образ Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Икона была порезана ножом. Отец Андроник, увидев ее, пал на колени: «Прости, Владычица, тех, кто дерзнул так сделать!» Ни жалоб, ни возмущения на хулителей святыни, ни угроз судом Божиим, но молитва за сотворивших беззаконие.
Отец Андроник отличался необыкновенной кротостью и смирением. Архиереев он почитал как Самого Христа и, когда правящие епископы посещали Глинскую обитель, сам им прислуживал: подносил еду, топил печки, протирал полы.
Отец Серафим (Романцов), наз-наченный настоятелем отцом Сера-фимом (Амелиным) духовником пустыни, старался в разговоре не столько сам говорить, сколько отвечать на вопросы. Учил молиться всегда, как только позволяют условия. Принимая множество людей, он разбирался в каждом, давал совет по любому вопросу, сообразуясь со Священным Писанием и творениями святых отцов. В зависимости от душевного состояния каждого человека, его жизненных условий, он индивидуально налагал молитвенное правило. Одним добавлял к ежедневным обязательным молитвословиям акафисты и каноны или советовал чаще читать Псалтирь, а другим, наоборот, благословлял сокращать до минимума утренние и вечерние молитвы, но с условием, чтобы в течение дня или по дороге на работу и обратно нашли время и прочитали всё остальное. Говоря о великой пользе молитвы в ночное время, отец Серафим в то же время предупреждал, чтобы этим не злоупотребляли и соразмеряли свои силы. Ни непосильных правил, ни трудных послушаний отец Серафим не давал, соотносил их со способностями и возможностями человека. Он говорил, что в горах Абхазии вместо пятисотницы было обязательным вычитывать 30 четок: 20 — Иисусова молитва и 10 — «Пресвятая Богородица, спаси нас, грешных».
Старцев очень любили и почитали. В последние годы жизни владыка Зиновий часто сидел в своей келье у окошка. Если старца не было на месте, то люди, проходя мимо, целовали решетку его окна.
Теперь мощи преподобных Андроника (Лукаша) и Серафима (Романцова) перенесены в Глинскую пустынь, а мощи преподобного схимитрополита Серафима (Зиновия Мажуги) покоятся в Александро-Невском храме города Тбилиси. Все эти преподобные отцы вошли в Собор глинских старцев, но пока являются местночтимыми святыми. Однако их духовные чада, проживающие не только на Украине, но и по всему миру, очень надеются, что всеобщее прославление старцев состоится в ближайшее время.
Зиновий Чесноков
К лику святых глинские старцы были причислены в 2009 году Синодом Украинской Православной Церкви. Дата памяти — 9 сентября (22 сентября по н. ст.). 21 августа 2010 года состоялось торжественное их прославление в Глинской пустыни при стечении многих богомольцев, священнослужителей и мирян. Чин прославления совершил по благословению Святейшего Патриарха Кирилла Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир. Присутствовали архиереи и духовенство Украинской, Русской и Грузинской Церквей.
Примечания:
1 Архимандрит Зиновий был включен в состав Священного Синода Грузинской Церкви по предложению Католикоса-Патриарха всея Грузии Мелхиседека III (Пхаладзе) 11 июня 1952 г. См.: Архив Грузинской Патриархии. Папка № 365. Документ № 3999 (Личное дело митрополита Зиновия). Л. 15.
2 Чесноков А. , прот. Великий старец-святитель митрополит Тетрицкаройский Зиновий // Православный голос Кубани. 1995. № 7 (55). С. 6.
«Сколько ни пиши о старцах, сколько книг ни издавай, тайна останется тайной», - говорят опытные люди. Правда, одному из авторов новинки книжной серии «Подвижники благочестия ХХ века» посчастливилось много лет провести в самой непосредственной близости к ныне прославленному старцу Глинской пустыни , в схиме Серафиму, - сначала в качестве иподиакона, а затем келейника. О своем общении с будущим святым и о старцах вообще размышляет протоиерей Александр Чесноков, который в соавторстве с сыном Зиновием, названным в память прославленного митрополита, написал книгу .
Отец Александр, вы лично были знакомы с тремя ныне прославленными Глинскими старцами: митрополитом Зиновием (Мажугой), в схиме Серафимом, схиархимандритом Андроником (Лукашем), схиархимандритом Серафимом (Романцовым). Какие у них были общие качества?
Все молитвенники, делатели непрестанной Иисусовой молитвы. Беседуют с вами и перебирают четочки: умная молитва идет постоянно. До этого дойти надо! Не каждый доходит, чтобы одновременно беседовать и продолжать молитву в сердце через ум.
Что еще общего? Доброта. Всегда старались помочь сами, не дожидаясь просьб. Любвеобильные. И что замечалось: прошли большую, очень трудную жизнь, через ссылки, гонения, разного рода оскорбления. Но никогда об этом не говорили, только иногда рассказывали, больше для назидания, о случаях из жизни в ссылке. Всегда в проявлении любви, и больше рассказывали о хороших случаях.
Вот что интересно: пройдя ссылки, они сохранили любовь к Богу, любовь к ближнему. Никакой озлобленности, никакой жестокости. Старались вспоминать только хорошее и о жизни в заключении, и о повседневной жизни, то, как Господь их вел.
Еще честность. Честность к Богу, честность к службе - тоже характерная черта. Даже вдали от обители служили по монастырскому чину, что никого не тяготило, потому что благодатность молитвы, которую они несли, передавалась окружающим. Люди старались как можно больше бывать у старцев и на богослужении, и просто приходя к ним. Получали дары, становились какими-то облагодатствованными, как говорил , постриженик митрополита Зиновия. Он вспоминал, что, даже коротко пообщавшись со старцами, люди уже получали благодатные дары, которые давали им силы на дальнейшую жизнь, на дальнейшее преодоление препятствий и надолго оставались в памяти. Так происходило потому, что за того, с кем соприкасались, старцы потом и молились.
- Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II - постриженик митрополита Зиновия?
При постриге будущего патриарха владыка Зиновий сказал в приветственном слове: «Я постриг будущего патриарха», - хотя Блаженнейший Илия был тогда еще семинаристом. Католикос-Патриарх сам вспоминал об этом в нашей беседе при встрече и говорил, что до сих пор ощущает небесную помощь владыки.
- Блаженнейший Илия также утверждал, что митрополит Зиновий устроил в Тбилиси «филиал» Глинской пустыни…
В 1961 году Глинская пустынь была окончательно закрыта, и старцы объединились вокруг владыки Зиновия. Трое из них: сам митрополит Зиновий, в схиме Серафим, схиархимандрит Андроник (Лукаш), схиархимандрит Серафим (Романцов) - в будущем пошли к Богу общим прославлением и вместе были причислены к лику святых в 2009 году.
Владыка Зиновий многим помогал. Мог, выйдя в храме и увидев стоящего монаха, подойти к нему с благословением и тихонечко оставить деньги на дальнейшее проживание. И кругом знали, что он всех поддерживает. Время было очень тяжелое, можно сказать - богоборческое, но у него каждый мог найти приют. И впоследствии, уже епископом, правящим архиереем, он много о чем мог попросить Грузинского патриарха: многих назначали на приходы, и они служили в Грузинской Церкви. А там были послабления по сравнению с Русской Церковью, хотя тоже и уполномоченные и прочее.
- Вы ведь с детства знали владыку Зиновия?
Мы приходили с мамой в храм, где служил митрополит Зиновий. Он всех замечал, всех одарял. У него в кармане всегда находилась или конфетка, или «рублик» - монетка в 50 копеек, которые он откладывал и потом раздавал (тогда эта денежка имела цену). Естественно, дети, когда его видели, бежали, чтобы получить подарок. Но не было никакой ревности, потому что он одарял всех одинаково.
На богослужении мы становились поближе во время чтения Евангелия, когда он снимал митру и давал кому-то из детей подержать. Вот тут среди нас даже немножко была борьба, потому что каждый этого хотел. Однако он сам указывал, кому держать.
Его келья находилась возле храма; на окошке сеточка, в ней прорезано небольшое отверстие, и всегда от владыки было утешение, подарочек: соседи ли подходили или детишки подбегали. Когда его не было дома - целовали даже створки оконца, получая такое благословение от самого старца. По его молитвам совершалось много чудесного.

- Почему владыка так щедро стремился поддержать всех?
Это тоже общая тенденция всех Глинских старцев: они очень щедрые. Старались всем по необходимости раздавать сообразно с нуждами каждого. Владыка всегда говорил, даже мне: «Будьте щедрыми, не будьте жадными, и всегда Господь пошлет. Чем больше отдаешь, тем больше Господь посылает». Рассказывал, как, например, утром отдал материальные ценности, и к вечеру принесли в четыре раза больше: «Вот, вам на нужды, сами распределите».
Я своими глазами видел, как владыка помогал всем людям, которые обращались с просьбами, а некоторые даже и не обращались, а он сам провидел их нужды.
- Откуда же старцы черпали духовные силы?
Получали при рукоположении. В таинстве священства Господь дает такие благодатные дары, что, если человек правильно молится, правильно совершает богослужение, правильно совершает таинство Евхаристии, - тогда Господь, оскудевающее Восполняющий, пополняет те дары.

Отцы, возле которых мы тогда окормлялись, сейчас причислены к лику святых: Господь их забрал в райские обители. Они прошли через трудный период гонений, испытаний и много чего претерпели в жизни, а «претерпевый до конца, той спасен будет» (Мф. 10: 22). Так произошло и с этими старцами, которые никогда никого не ругали, ни своих гонителей, ни своих обидчиков, но во всем полагались на волю Божию. Раз так происходит, значит это - Промысл Божий. С таким настроением, с таким воодушевлением, конечно, легче жить, легче пронести свой крест, несмотря на трудности, которые встречаются на жизненном пути.
- Сейчас старцы есть?
И сейчас старцы есть. И сейчас к ним очереди, не приступишься. Люди нуждаются в окормлении. Хотя иногда, может, и старца не надо? Просто обратись к священнику, у которого исповедуешься, или помолись хорошо, обратись к первому встречному и получишь ответ на свой вопрос. Надо, чтобы ты сам потрудился, сам помолился, и уже по твоему внутреннему сердечному состоянию Господь даст и ответ. Точно так же и здесь. Узнаешь ты старца, не узнаешь - это какое будет твое внутреннее состояние и желание.

Даже в период гонений, когда церкви рушились, закрывались, многие были в изгнании, даже тогда души, стремящиеся к Богу, кто хотел и искал старцев, находили, приезжали со всего мира, несмотря на закрытые границы, когда не впускали и не выпускали. О Союзе я просто не говорю: со всех концов и приезжали, и окормлялись, и не было такого, чтобы владыка Зиновий кого-то не принял. Кого-то с рассуждением, кого-то с объяснением, всех встречали, и говорили, и старались накормить, чтобы они уезжали утешенными. А другие спрашивали: «Куда? Где старцы? Какие сейчас старцы?!»
Когда закрытая в 1922 году Глинская пустынь была ненадолго открыта в 1942 году, многие приезжали, в том числе одна женщина, которая оставила потом свои воспоминания. А старцам, кроме того что они занимались духовным окормлением, нужно было чисто по-человечески возрождать пустынь, нужно было заниматься хозяйственными делами, нужно было кормить и себя, и многочисленных паломников. И вот эта женщина остановилась посреди двора и внутренне вопрошает - родился такой мысленный вопрос: «Где же найти этих старцев?!» Тут мимо пробегает будущий схиархимандрит Андроник (Лукаш) и вдруг говорит ей: «Книги надо читать». Вот так. Ответ на ее вопрос уже получен. Она даже не успела спросить, а он уже отвечает.

Сейчас издается много литературы. И в нашей книге «Подвиг святой жизни. Святые старцы Глинской пустыни. ХХ век» собран очень богатый духовный материал, потому что это воспоминания не одного человека, а сборник. Конечно, это капля в море тех, кто приходил, приезжал, окормлялся, находил духовную поддержку. Но эта капелька тоже может стать великим утешением.